

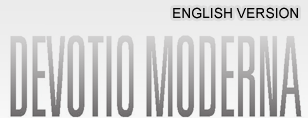
 |

|
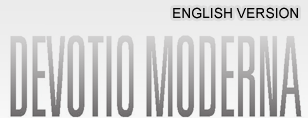 |
|
|
|
|
|
|
Культурный центр ДОМ21 марта 2008SONORE (Германия, Швеция, США) Питер БРЕТЦМАН (Германия), Матс ГУСТАФССОН (Швеция), Кен ВАНДЕРМАРК (США) [новый джаз] ВНИМАНИЕ! ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ КОНЦЕРТ ТРИО SONORE ПЕРЕНОСИТСЯ С 20.00 НА 21.00
Начало в 20.00 Количество билетов ограничено. Интрервью с Бретцманом: — Считаете ли Вы себя джазовым музыкантом? Ведь некоторые Ваши коллеги не любят слово „джаз“. — Да, такая тенденция имеет место… Однако в мои годы я уже могу сказать определенно: да, я джазовый музыкант. — А какие другие направления в музыке Вам близки? — В наши дни границы между различными музыкальными направлениями настолько размыты, что к джазу относят не только 32-тактовую мелодию или 12-тактовый блюз. Джаз — это образ жизни. Я сотрудничаю с самыми разными людьми, например, восемь лет я работал с исполнителями, близкими рок-музыке, — Билом Ласвелом и Шенноном Джексоном3. А сейчас я вернулся с небольших гастролей из США, где играл с ударником Уолтером Перкинсом. Ему уже почти восемьдесят, и с кем он только не работал — с Билли Холидей, Сан Ра, Коулменом Хоукинсом, Артом Фармером, Джимом Холом! Мы с Перкинсом выступали дуэтом: я играл свою музыку, он — свою, и все прекрасно сочеталось. Не имеет значения, откуда вы, считаете ли вы себя джазовым музыкантом, играете рок или современную академическую музыку. Например, последние 20 лет я практически каждый год выступаю в Японии и играю с исполнителями традиционной японской музыки. Но мне приходилось работать и с африканскими музыкантами. Главное, нужно уметь слушать и реагировать на творчество другого человека, надеясь, что он стремится к тому же, — тогда наверняка получится музыка. Что же касается джаза… Два года назад во время фестиваля афро-американского искусства в Атланте состоялось что-то вроде семинара, где был Лерой Джоунс4. Я спросил его о происхождении слова „джаз“, ведь ему лучше известна история языка, но, оказалось, даже он точно не знает, что это такое. Ну, а для меня джаз — один из способов понять образ мыслей другого человека и добиться взаимодействия между музыкантами, выступающими вместе. — Вы родом из Германии — скажите, что чувствует европеец, исполняющий американскую музыку? — Пока я рос в доме родителей, там все время звучала классическая музыка, которую любил отец: Чайковский, Моцарт, Бетховен, Малер. Я устал от нее — а в то время, после войны, был лишь один способ узнать, что происходит в современной популярной музыке: по ночам, когда все уснут, я пробирался в гостиную, где стоял приемник, включал его и слушал „Голос Америки“. Уже тогда меня привлекал джаз, во многом потому, что я не принимал классическую музыку, которую мне навязывали. Мне и сейчас кажется, что джаз дает больше свободы исполнителю, чем академическая музыка. Исполнители классической музыки, попросту говоря, не свингуют5. А для меня главное, чтобы в музыке был свинг. Так, если послушать музыкантов из Северной Африки, Сенегала или пионеров блюза — все они играют по-разному, но у каждого свой свинг. Поначалу я интересовался ранним джазом Нью-Орлеана, в старших классах школы организовал джазовый кружок, а потом раздобыл кларнет и стал на нем играть. Еще я начал общаться с американскими музыкантами, такими как Сесил Тейлор, Стив Лейси, Карла Блей и Дон Черри, оказавший на меня особенно большое влияние. В 1960–1970-е годы в разных странах Европы некоторые мои коллеги по политическим и иным мотивам старались иметь как можно меньше общего с американским джазом, культивируя европейскую интеллектуальную манеру игры. Для меня же, напротив, очень важны были контакты с американскими исполнителями, скажем, с Эндрю Сирилом… Кстати, и в Америке, и в Европе мне всегда везло на сильных ударников. Я играл с европейцами Свеном Юханссоном, Беннинком, Мооло, Тони Оксли, а из американцев — с Шенноном Джексоном, Сирилом, Рашидом Али и его младшим братом Мухаммедом (который в то же время работал с Фрэнком Райтом6). — Считается, что европейским джазменам, особенно ритм-секциям, как раз не хватает свинга… — Это не так. Конечно, у чернокожих музыкантов, вроде Сирила, Мухаммеда, Рашида Али или Рашида Бакра, во всем ярко проявляются их африканские корни. То, как они говорят, ходят, играют, отличает их от таких исполнителей, как Беннинк или Оксли… хотя Тони я считаю наиболее американским из всех наших ударников, но вот Беннинк, пожалуй, ближе к Джину Крупе. Однажды Беннинк не мог играть, и я попросил Пауля Ловенса, музыканта из молодых (когда мы встретились, ему было лет 18), помочь нам. И как только Ловенс вступил, я понял, что, хотя ему ближе другая музыка — боп, хард-боп, он свингует! Пусть теперь Пауль записывает довольно странную музыку, но могу сказать, что у него все равно есть свинг. Конечно, в Европе встречаются музыканты, которые играют очень скованно, но ведь такие есть везде — и в Америке. — То, что джаз пришел из Америки, дало его европейским исполнителям определенные преимущества: они восприняли эту музыку извне, с высоты своих традиций. Поэтому о Вашей пластинке „Machine Gun“ справедливо говорят, что она не могла быть записана в США. — В этом я с вами согласен. Сама композиция, музыканты, звучание, которого нам удалось добиться,— все это, действительно, очень европейское… Мне даже кажется, что причина моего успеха в США как раз в том, что моя манера игры не похожа на американскую. Наверное, это связано с моими корнями — европейской культурой, образованием. Но мое особое восприятие музыки вообще и джаза в частности объясняется, прежде всего, тем, что первоначально я не собирался становиться профессиональным музыкантом,— я изучал живопись и графику. Поэтому на меня воздействовали другие виды искусства и другие направления музыки. К примеру, когда я только начинал играть джаз, Штокхаузен открыл в Кёльне студию электронной музыки, и я работал у него как художник. Я также знал Нама Джуна Пайка и не раз бывал на концертах Джона Кейджа, а рядом с моим домом действовала художественная галерея, где Йозеф Бойс устраивал свои первые перформансы. Таким образом, я испытывал влияния такого рода, какие обычным джазовым музыкантам неизвестны. И мне было легче забыть о правилах и сосредоточить внимание на том, чего я хотел добиться от инструмента. — А что такое немецкий тип джаза? И существует ли таковой вообще? — Пожалуй, нет. Но, к сожалению, люди, которые пишут о музыке, особенно о джазе, обычно склонны к поверхностным суждениям, они любят определять стили, вешать ярлыки. Говорят, к примеру, у немцев „мощный“ джаз, американцы играют „забавную“ музыку, англичане — „интеллектуалы“… — И все же, ведь есть понятие „национальные культуры“… — Может быть, вам со стороны видней. Я ничего такого не знаю. — Но очевидно, что в различных странах Европы джаз играют по-разному, а фри-джаз в основном популярен в Германии, Англии и Голландии, то есть в странах германской культуры. — Да, вероятно, какие-то национальные особенности существуют — так, хотя я постоянно выступаю во Франции, там меня все еще воспринимают как какое-то маленькое чудовище. Немецкая музыка для французов слишком тяжела и недостаточно приятна. Они любят приятную музыку, народные песенки или, например, Луи Склави7. Однако последние 10–20 лет я старался работать с американскими музыкантами, и не могу сказать о себе: „Я играю немецкий джаз“. Нет, я просто путешествую по свету и играю тут и там. Для меня важно иметь свое лицо, а что там специфически немецкого или европейского, сказать не берусь. — Если следовать традиционной терминологии свободный джаз, фри-джаз, можно ли выделить нечто „свободное“ в Вашей игре? — Должен сказать, я никогда не любил это слово — слишком много с ним связано заблуждений. Лучше употреблять термин „импровизационная музыка“. Ведь, строго говоря, никто не свободен. Думаю, и я не свободнее Фэтса Уоллера. У меня свои правила, я следую им. Я выработал их вместе с моими коллегами из разных стран. Так что „свободный“… — забудем об этом! — Но развитие фри-джаза было связано с борьбой за политические свободы… — Конечно, был такой период, приблизительно между 1965 и 1971 годами, когда у нас происходила настоящая студенческая революция — в Германии, во Франции, а, кроме того,— война во Вьетнаме, беспорядки в США… Музыка неизбежно становилась частью этих событий и отражением происходившего тогда. В этом смысле, я, пожалуй, принимаю термин „свободный джаз“. Но только так. — В те годы некоторые исполнители джаза пытались решать музыкальные проблемы немузыкальными средствами… — Это невозможно! Нельзя решить специфически музыкальные проблемы, не играя музыку. — Но, кажется, многие музыканты Вашего поколения стремились к полной анархии: пробовали играть несколько не связанных между собой мелодий одновременно, отрицали ритм, гармонию,— все это лишь для того, чтобы выразить идею свободы. — Но ведь так было в искусстве всегда: если какое-то направление достигает точки, далее которой развитие невозможно, нужно отказаться от него, чтобы открыть дорогу чему-то новому. Именно это происходило в 1960-е годы одновременно и в США, и в Европе. — Этот процесс обусловлен развитием собственно музыки, а не культуры или общества в целом? — Это было неизбежно. В 1950-е годы весь джаз, который появлялся в Европе, принадлежал исключительно к хард-бопу. Приезжали отличные группы Арта Блейки и Хорейса Силвера и множество второстепенных команд. Все они достигли такого уровня, что уже не могли развиваться. Нужно было взорвать ситуацию изнутри, найти новые возможности саксофона, новые способы игры на ударных. Когда я начинал работать с Ивеном Паркером в середине 1960-х, тот играл в манере Колтрейна: такие же гармонии, мелодии; другим саксофонистом в нашей группе был Виллем Бройкер, тому был ближе Эрик Долфи. Но в дальнейшем, где-то на рубеже 1960-х и 1970-х, они нашли свой стиль. И мне тоже, надеюсь, удалось придумать нечто такое, чего никто до меня не делал — и до сих пор не делает… — Но фри-джаз так и не стал господствующим направлением, в отличие, скажем, от бопа. Почему? — Давайте посмотрим на американскую культуру в целом. Музыка в этой стране воспринимается исключительно как бизнес, развлечение. И если, скажем, мы, европейцы, восхищаемся Сесилом Тейлором, Орнеттом Коулменом и другими творцами новой музыки, в своей стране они все еще маргиналы. Там господствует коммерческий мэйнстрим. Кроме того, фри-джаз не создан для больших залов. Конечно, приятно, когда на концерты приходит много людей, но все же это музыка, которую один человек играет для другого, слушателя в зале, причем ваша обязанность — убедить его, а слушающий должен быть готов к тому, что между вами возникнет общение. Одним словом, мы не „Rolling Stones“ и никогда не хотели ими быть. — Но ведь Вы тоже ищете признания у публики?! — Да, мне нравится выступать на фестивалях перед большим количеством слушателей, но, с другой стороны, я точно так же рад играть в маленьком клубе, где-нибудь в Южной Каролине с двадцатью слушателями. Если в зале какого-нибудь джазового клуба 100 человек — это уже немало. Приходит 200, — мы счастливы, 400 — просто здорово, но все это величины, не сопоставимые с поп-музыкой. Когда я в детстве бывал на концертах Майлза Дэйвиса, Бада Пауэлла, Кенни Кларка, там могло присутствовать до 1000 человек, но с появлением поп-музыки это осталось в прошлом. — В поп-музыке 1960–1970-х годов были свои прогрессивные направления, к примеру, фанк. — Элементы фанка всегда имели место в джазе — как и в блюзе, и в рок-н- ролле. Тут все зависит от конкретных музыкантов. Например, Шеннон Джексон, родом с Юга, из города Форт-Уорт в Техасе, имеет свои традиции, почему бы их ни использовать? Были и есть, однако, другие, кто думает лишь, как заработать на популярности той или иной музыки, они-то и соединили фанк с легкими мелодиями. — В записях 1980-х Вы тоже прибегали к элементам фанка, — имеется в виду „Last Exit“. А в современном джазе используют уже не только фанк, но и рок-музыку, вплоть до панк-рока. Должно быть, популярные направления все еще сохраняют для джазменов привлекательность? — Во времена „Sex Pistols“ одна английская газета поместила интервью с молодыми музыкантами, которые, вероятно, слышали кое-какие мои записи. Они сказали о нас: „Вот, кто первым заиграл панк!“ Это высказывание лишний раз доказывает, сколь условны границы между стилями. Но когда я был в „Last Exit“, мы не обсуждали, что мы делаем, какие элементы используем, что будем играть. Мы просто творили, и каждый вносил что-то свое, а остальные слушали и старались как-то на это ответить. — Слушая некоторые композиции „Last Exit“, вспоминаешь записи Майлза Дэйвиса после „Bitches Brew“. Ведь там присутствовали определенные приемы фри-джаза, но наложенные на жесткий ритм рока, фанка. И это было ценное начинание. — Да, как один из многих возможных путей… — А вот голландский пианист Яспер ван’т Хоф, недавно побывавший у нас, сказал, что для него пластинка „Bitches Brew“ стала откровением — услышав ее, он оставил фри-джаз. Как восприняли тогда эти изменения Вы? — Должен признаться, меня никогда не интересовал этот период в творчестве Майлза. Я любил его музыку и ходил на его концерты вплоть до самого конца, но мне импонировало лишь то, что делал он сам. Как джазовый музыкант, я, пожалуй, достаточно старомоден. Мне нравится естественное звучание ударных, духовых, — и этого достаточно. Майлз, конечно, был гением и легко справлялся со всем этим эклектичным звучанием, мог работать в студии с наложением, микшированием — независимо от того, как я к этому относился. Но все другие исполнители такой музыки отнюдь не гениальны, и то, что они делают, кажется просто скучным. — Наверное, потому что почти все уже было сказано в первой записи! А возможно ли вообще развитие стиля джазового музыканта, способен ли он изменить свой голос, свою манеру? — Ну, например, Майлз никогда не менял голос… Брёцман тоже… В самом деле, вам дан именно этот голос — как именно это тело, этот мозг. Все взаимосвязано, от этого никуда не денешься. С другой стороны, я еще учусь чему-то — пусть мне немало лет, я постоянно узнаю что-то новое. Всегда есть какое-то движение вперед, только шаги, из которых оно состоит, в молодости больше, а с наступлением старости почти незаметны. Но движение остается, именно поэтому я продолжаю играть, и запись каждого нового диска — часть такого движения. Иначе мне пришлось бы остановиться, скажем, на „Machine Gun“, так как там уже было все, что я хотел сказать. — Еще недавно казалось, фри-джаз, наконец, получит признание — мир бизнеса пытался его поглотить. Так, некоторым Вашим американским коллегам удавалось заключить контракты с крупными фирмами. — Такое иногда случается. Но если, к примеру, Орнетт Коулмен в финансовом отношении сейчас вполне устроен, по сравнению с некоторыми исполнителями популярной музыки, он попросту нищ. Последний из нас, кто заключил контракт с крупной фирмой — подразделением „Columbia“ — был Дэвид С. Вэа8. Речь шла о записи четырех компакт-дисков — они так и не были выпущены! Эти альбомы, может быть, даже напечатаны (компании выгодно иметь Дэвида в списке музыкантов), только вы их нигде не найдете. — Но почему прорыв фри-джаза не удался, почему верх одержал Уинтон Марселис? — А вы посмотрите, на Линкольн-центр, представьте, сколько туда вложено средств, но какие недалекие люди там работают,— создают, например, бездарные телепередачи по истории джаза. Все это бизнес. — И, пожалуй, сегодня бизнесу сильно не достает вкуса! — Вспомним такие звукозаписывающие компании как „Riverside“, „Atlantic“, „Columbia“. Они всегда стремились выйти за пределы мэйнстрима. Конечно, этим фирмам был необходим хоть какой-то заработок, чтобы оплачивать работу служащих и даже, может быть, труд исполнителей,— но при этом их всегда интересовала собственно музыка. Поэтому у них были странные маргинальные музыканты, которые и двигали джаз вперед,— чего теперь не происходит. — Творческие направления джаза сейчас непопулярны? — В самом начале, в 1960-е, я думал, что все идет к лучшему, нас уже воспринимают как явление искусства, мы пользуемся все большим уважением, играем, например, в музеях, а не в грязных подвалах, участвуем в фестивалях… Однако это оказалось иллюзией: мы снова аутсайдеры! В иерархии культурных событий джаз занимает низшую ступень. Видимо, там он и останется. Что не так уж и плохо, ведь это значит, что нужно много работать и ясно представлять себе, что ты делаешь. — А с чем связана утрата интереса к джазу как таковому? — Причина проста. Мы занимаем ничтожный процент от всего мира музыки. Нас можно не принимать во внимание. 99% музыкальной индустрии управляет бизнес, а мы принадлежим к тому жалкому проценту, который руководит сам собой … Но я работаю не покладая рук, путешествую по всему свету, порой мне даже удается заработать… Нет, я не жалуюсь. Когда я начинал, то сказал себе: „Что ж, буду заниматься именно этим“— мне было тогда лет 20, и было ясно, этот путь, по которому я хочу следовать, может и не привести меня к успеху. И пусть от нас требуют, чтобы все было как можно более „художественно“, мне это безразлично. Я художник, но не знаю, что „художественно“, а что — нет, и считаю, что не обязан развлекать кого-то, этот мир не создан для развлечений — особенно теперь! Я не могу сидеть дома, смотреть телевизор, читать газету и мечтать о какой-нибудь симпатичной музыке. Ведь мир, эта наша глобальная деревушка, все более сближается, но на необычайно низком, массовом уровне. Кто-то должен этому противостоять, хотя бы в искусстве. Не думаю, что удастся многое изменить, но можно хотя бы время от времени подавать сигналы, что ты не согласен с происходящим. И все мы предпринимаем что-нибудь на практическом уровне. К примеру, поскольку мои отношения со звукозаписывающей компанией „FMP“ прекратились, осенью этого года я открываю собственную фирму. То же делает Ивен Паркер. Не знаю, чем сейчас занят Виллем Бройкер, но я слышал о возрождении его фирмы „BVHaast“. Все мы понимаем, что необходимо идти навстречу слушателям, самим „раскручивая“ свои записи. В 1966 году я организовал фирму, которая спустя два или три года превратилась в „FMP“. Выходит, мы снова там, где начинали когда-то… — Есть еще одна деталь, вызывающая чувство грусти: Вы, Ивен и Виллем уже не молоды. Где же новое поколение исполнителей? — В этом самая большая проблема… Хотя сейчас в любой музыкальной школе есть класс джаза, где готовят приличных музыкантов, способных играть все, что угодно. Что происходит с ними потом? Они не выступают. Может быть, преподают в каких-то заштатных музыкальных школах или записывают какую-нибудь бездарную музыку в студии — и все. Но чтобы сложился определенный подход к джазу, нужно выступать, гастролировать. А молодые исполнители не желают ездить по белу свету, ничего при этом не принося домой. Вот, что изменилось. Как только они оканчивают институт, им сразу нужны деньги. И это потому, что наш образ жизни все более американизируется,— что не способствует развитию музыки, особенно в Германии. Нашастрана в 1960–1970-е и даже в 1980-е была в центре экспериментальной музыки, но теперь все это ушло. В отношении Германии я настроен крайне пессимистично. Но в Скандинавии есть много молодых исполнителей, которые ищут что-то, и в США я встречаю большой интерес к нашей музыке. На концерты приходит много молодежи. Среди них есть люди, которые уже ничего не знают о Чарли Паркере. Я им тем более неизвестен, но их интересует то, что я делаю, и они приходят снова и снова… Молодые слушатели воспринимают эту музыку, по крайней мере, как еще один источник информации, которой нет в электронике или поп-музыке. — А как в США обстоит дело с молодыми музыкантами? — Соединенные Штаты Америки — большая страна. И в таких городах, как Чикаго или Нью-Йорк, встречаются интересные музыканты… Я и сам иногда играю с достаточно молодыми, то есть примерно 35-летними исполнителями. Но мне, конечно, хотелось бы узнать, что делают те, кому 20–25.— Записывая альбом, посвященный Альберту Эйлеру9, Вы, вероятно, обращались именно к молодежи. А что значит это имя для Вас? — Мы с Эйлером почти ровесники, и в 1960-е годы в разных концах света, ничего друг о друге не зная, при всем различии традиций, занялись примерно одним и тем же. Но он умер так рано… Лишь несколько лет Эйлер был на сцене и оставил немного записей, но они глубокое духовное послание, истоки которого — в той религиозной общине афро-американцев, из которой он вышел. У меня этого нет, — я атеист с детства, — но ведь духовности можно достичь разными путями. Надеюсь, я тоже нашел ее, как и он. — Что для Вас интереснее, выступать с концертами или работать в студии? — Концерты важнее, так как с них все начинается. Записывать компакт-диски тоже интересно, но это — второстепенное. Хотя если я получу письмо от какого-нибудь жителя Малайзии, который ищет мою музыку и не может найти, мне доставитудовольствие отправить ему пару дисков. — Между прочим, идея записи пластинок противоречит наиболее радикальным представлениям о свободе в музыке, так как изначально предполагает некий компромисс… — Такая точка зрения слишком убога. — Исходя из собственного опыта, Вы можете сказать, всегда ли во время записи на музыкантов оказывается давление — со стороны студий, компаний, продюсеров? Достижима ли здесь творческая свобода? — Необходимо добиваться независимости от студий. В прежние годы это было очень сложно, нужно было создавать собственную студию, где-то находить оборудование. Для „FMP“ мы смогли постепенно кое-что прикупить, у нас получилась неплохая студия, но в самом начале приходилось довольствоваться концертными записями. Теперь все проще, можно гастролировать с маленькой коробочкой и двумя микрофонами и так записывать дуэты, трио — все, что угодно.— Какое место занимает в Вашей музыке продюсер? В популярной музыке он решает практически все вопросы… — Если вы посмотрите на вкладыши наших компакт-дисков, то увидите, что в графе „продюсер“ всегда указаны также имена музыкантов. Если я делаю записи на фирме „Okka-disc“, там есть Бруно Джонсон, который обычно сопродюсер, а я продюсер записи, и наоборот. Ничего похожего на поп-музыку здесь нет. Единственный раз, когда я столкнулся с продюсированием иного рода — и то был не самый приятный опыт в моей жизни — когда я играл в „Last Exit“, где Билл Ласвел все время пытался взять на себя роль продюсера. Некоторые его эксперименты мне особенно неприятны, например, запись „Iron Path“, которую мы сделали на фирме „Virgin“. — И поэтому студийный альбом группы „Last Exit“ так и остался единственным? — Эта группа была изначально задумана как концертный проект. А студийный альбом мы записывали так: встретились в бруклинской студии вместе один раз, потом каждый действовал самостоятельно, а Билл все смикшировал. Мне не понравился нипроцесс работы, ни результат. — Ласвел считается довольно необычным продюсером… — Верно. Хотя я не считал его виртуозом, мне даже нравилось, что он делал в группе то, что и положено басисту — всех объединял. Теперь офис Ласвела постоянно присылает мне спродюсированные альбомы, полагая, что может меня привлечь, но эти записи, по большей части, неинтересны. Судя по всему, Ласвел допускает ту же ошибку, что и Манфред Айхер. Я знаком с Айхером — сначала он играл на контрабасе, правда, не очень хорошо. Несколько раз мы вместе выступали. Еще прежде чем Айхер создал свою фирму „ECM“, он записал и спродюсировал некоторые мои альбомы. Но если посмотреть историю фирмы, то видно, что там, в конце концов, все стало звучать совершенно одинаково. Музыка не должна быть такой! И у Билла Ласвела, едет ли он в Марокко, работает ли с музыкантами из Сенегала или с кем-то еще, в конце концов, получается одно и то же. В этом большая опасность продюсерской работы. Но прежние великие продюсеры, создатели „Blue Note“, Эртегуны10, или ещеодин, армянин, которого я очень люблю (он, в частности, продюсировал запись Сонни Роллинза с Коулменом Хоукинсом11), мне кажется, делали свое дело более аккуратно. А теперь бывает так, что у продюсера в голове есть какой-то определенный саунд, он подбирает музыкантов для его реализации, и в результате музыка получается однообразной. — Наверное, поэтому Вам ближе концертная деятельность? — Есть определенная музыка, которую просто необходимо слушать живьем. С другой стороны, я был бы не прочь иметь такую студию, куда можно прийти, закрыться на неделю, не выходя даже ночью, взять с собой напитки, кофеварку, кое-какую еду, положить матрас где-нибудь в углу, затем включить аппарат и записывать все, что придет в голову целые сутки,— идеальная ситуация! Но ни о чем таком пока и речи быть не может… — А какую реакцию слушателей Вы ожидаете? Какие чувства вы хотели бы разбудить в них? — Не знаю… Порой бывает так тихо, что слышно, как иголка падает на пол, порой публика кричит и шумит, и это создаетсовсем другое настроение. Раньше в нас частенько летели пивные банки, и по мне это тоже нормально. Ведь люди просто говорили тем самым: нам не нравится то, что вы делаете. Что неприятно, так это когда публика сидит и скучает — не получаешь никакой отдачи, стараешься, но ничего не возвращается. Это редко, но тоже бывает. — Как Вам кажется, те молодые люди, что приходят на Ваш концерт, в самом деле, интересуются джазом, как живым искусством, или же для них это своего рода звучащий музей? — Если окажется, что верно второе, тогда всем нам лучше бросить играть. Но не думаю, что это так. Материал подготовили Иван Саблин и Алексей Хмыров
|
|
|
|
Интро
Персоналии
Институции
Проекты
Издание CD
Пресса
Контакты
Подписка
Ссылки
(C) 2004 Девоцио Модерна, admin@devotiomoderna.ru |
|
|